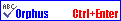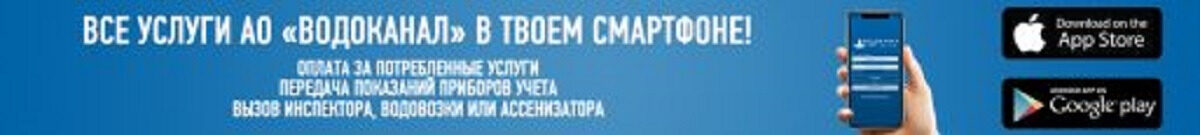Ушла со сцены в Министерство: Еще могла бы властвовать в своем амплуа
Моцарт за Полярным кругом: «бенефис» Марины Силиной
Соприкосновение с гением Моцарта – является праздником для любителей и ценителей классического искусства. Встреча с ним приятно порадовала якутских зрителей 6 декабря 2024 года на сцене Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона в спектакле «Волшебная флейта».

Удивительно, но лучезарную музыку своей последней оперы он писал незадолго до ухода из жизни, параллельно с так и незавершенным реквиемом — через два месяца после премьеры «Волшебной флейты» его не стало. Исследователи до сих пор пытаются разгадать загадку этого шедевра, созданием которого Моцарт победил смерть — версий достаточно много, но за внешней простотой незатейливой сказки скрывается множество тайных смыслов, которые оставил последующим поколениям композитор.
Философский сюжет с моралите, пронизанный просветительскими аллегориями гетевской эпохи, вера в идеалы равенства и братства, торжество сил света над ночью и тьмой, высокий гуманизм идеи созидания Храма согласия и прежде всего в душе человека – вот пожалуй основные заветные мысли композитора, вложенные в уста героев оперы.
Хотя «Волшебная флейта» — это не опера в классическом понимании, а немецкая разновидность комической оперы – зингшпиля — пьесы, где разговорная речь перемежается с пением, присутствует несуразица, путаница в сюжете, придающее действию обаяние и шарм.
Особенностью данной постановки, осуществленной в 2006 году тогда начинающим оперным режиссером П. Неустроевым, является то, что действие из Северной Африки — знойной долины Египта — переносится на Крайний север — за Полярный круг. В этом есть свой определенный смысл, так как жанр немецкого зингшпиля близок по духу народным музыкальным драмам, а мифология Древнего Египта — миф об умирающем и воскрешающем боге Озирисе и супруге его Изиде перекликается с мифологией народов Якутии, в частности обрядами медвежьего праздника, шаманскими ритуалами и т.д. Можно было развить эту тему далее — чем Зарастро не Белый шаман или представитель божеств Айыы, а Царица ночи с ее арией мести – не Кыыс Кыскыйдаан или зловещая Дева Илбис?
Но постановщики, оставив неизменной моцартовскую партитуру, забыв непреложную истину о том, что «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань» — ограничились апеллированием сугубо к визуальному коду якутского национального костюма, одев солистов якутской оперы в костюмы с элементами национального покроя и традиционными орнаментами: мир людей – в древесно-золотистые цвета охры, песка, жухлой листвы, а мир фантастических существ и жрецов Изиды и Осириса — в цвета синего льда, фиолетовой мглы и пронзительного ультамарина небесной тверди. Декорации в первом действии были выдержаны в рамках сказочного жанра — только вместо солнечной долины Нила принц Тамино борется с драконом — логичнее по версии режиссера П. Неустроева было бы с чудовищем Алып-Хара – на фоне заснеженных сталактитов вечной мерзлоты мамонтовых голов. Дракон больше походил на игрушку из новогодних детских утренников, чем на современный театральный реквизит.
Двадцать лет назад данная постановка смотрелась самобытно, но время идет – прошло почти четверть века и тренды современного оперного театра меняются достаточно быстро – пышное, экономически затратное оформление стационарного театра успешно заменяется на минималистичные электронные декорации на светодиодах, ведь главное в опере — музыка.

Второе действие, разворачивающееся во владениях Зарастро — главы могущественной религиозной касты — не будем забывать, что Моцарт и автор либретто Эмануэлл Шиканедер были членами масонского ордена, что в те времена не приветствовалось официальными властями — было решено художником-постановщиком Е. Шапошниковой как Царство будущего великого разума с вполне явственной отсылкой к изображениям материнских плато цифровых систем. Вера в объективный Сверхразум, который будет поставлен на службу человечеству в современном обществе подвергается сомнению – вполне правомерно ставится проблема безопасности искусственного интеллекта и выработки способов контроля над ним. В этой связи прямое олицетворение высшего объективного добра с грядущей цифровизацией и упование на нее вызывает сейчас правомерные вопросы.
Постановки, решаемые в лучших традициях жанра – долговечнее и востребованнее актуальных версий, созданных, что называется «на потребу дня». В любом театре должен иметься золотой фонд классических спектаклей, на которые публика приходит осмысливать не аспекты политического символизма, а просто наслаждаться бессмертными творениями классиков на извечные темы любви, верности, божественного благословения брачных уз, необходимости продолжения человеческого рода и неоспоримости семейного счастья.
Приезжим солистам легче будет вписываться в классические постановки. Лауреат международных вокальных конкурсов, солистка Мариинского театра Кристина Гонца пела свою парию на немецком языке – и это норма для современного оперного театра. На сцене ГТОиБ РС (Я) «Волшебная флейта» идет на русском языке — это традиция сохранилась еще с советских времен для облегчения восприятия зарубежных образцов – и в основном еще характерна для регионов.
Это не первое выступление приезжей солистки на сцене Якутии. Родом из Красноярска, лауреат международных вокальных конкурсов она выступила на достойном уровне, продемонстрировав хорошую вокальную технику в одной из сложнейших партий оперного репертуара. При этом певица продемонстрировала убедительную актерскую игру, но следует отметить что при всем при этом не она была «откровением» на этом вечере. В заявленной концепции спектакля наша якутская Царица ночи Альбина Борисова, на мой взгляд, смотрелась органичнее.
Внимание зрителей, их симпатии и положительные эмоциональные переживания вызвали два лидера представленного спектакля — народный артист Якутии Юрий Баишев, похудевший, постройневший, полный сил и энергии воплотил образ Папагено — главного комедийного персонажа- дикаря-птицелова, полузверя-получеловека, сродни якутскому Чучуне и молодая восходящая звезда современной якутской оперы Екатерина Захарова, исполнившая роль принцессы Памины, которая уже вполне достойна звания, на уровне представляя республику на российских подмостках (вспомним несправедливое отношение руководства театра к Ирине Чичковой, на протяжении многих лет тянувшей на себе сложнейший репертуар драматического сопрано).

Моцарта сложно сыграть сходу, если он не стоит в основном репертуаре театра. Внешняя простота и искрящаяся легкость моцартовской музыки сродни граням сверкающего алмаза, которые просто преломляют в себе свет, но удивительным образом рождают в них сияние солнца!
Музыкальная ткань данного спектакля постепенно рождалась в прямолинейно, даже плоскостно звучащей фугированной увертюре. Вопросы возникали к темпам тех или иных номеров. Хотелось отточенности, собранности, более четкой интонационной артикуляции партий оркестра. (дирижер П. Васьковский). Г. Маркези писал, что «инструментальная часть оперы представляет собой исполненное определенного смысла архитектурное сооружение — искрящееся и одновременно пористое, как красивое старинное стекло, хрупкое, с теплыми отблесками».
Юмора и искрометной радости добавлял харизматичный Юрий Баишев, а тепло душевной теплоты и вокальную сердечность — буквально лучащаяся от счастья музыкального сотворчества Екатерина Захарова. От обоих «искрило» и «било током». Гений моцартовского незримого присутствия, подобно аромату расцветающего цветка, постепенно завладел всеми участниками спектакля, набравшего свой темп и вошедшего в нужное русло.

Партия принца Тамино в этой опере — достаточно неблагодарная. Несколько непростых арий в начале спектакля- с портретом, с флейтой, а потом и — сплошные ансамбли – собственно негде тенору себя показать. Н. Попов в последнее время не впечатляет звучанием своего голоса — мало куража и прежней молодецкой звонкости.
Три дамы Царицы ночи (Ф. Шахурдина, П. Герасимова, Е. Корякина) в ансамблях солируют — «не впеты» как и мальчики-пажи, гении храма (Д. Охлопкова, З. Колодезникова, С. Трифонова) — роли травести всегда сложны для исполнения. Трудно найти взрослых солисток оперы, чтобы и внешность была юношеская, и голос звучал. Главное, чтобы «костюмчик сидел!», но они на «мальчиках» смотрелись неважно, особенно, на третьем, при этом на ум приходили строки из «Двенадцати стульев» незабвенных Ильфа и Петрова — «кто скажет, что это девочка — пусть первый бросит в меня камень!».
Сцены во дворце Зарастро (Е. Колодезников) в сопровождении хора (хормейстер О. Птицина) прозвучали величественно и монументально. Ярким желтым пятном во втором действии мелькал мавр Моностатос (В. Киселев) в гриме blаckfase, но с белыми крупными руками, которыми он хотел заполучить в свои объятия принцессу Тамину, так что хотелось по Станиславскому сказать – «не верю»!
Реклама «Волшебной флейты» велась достаточно активно – виновница торжества дала пространные интервью, выступила на ТВ, взяв на себя, по сути, просветительские функции музыковеда. Мало кто из нынешних солистов якутской оперы перед своим выходом на сцену имел столь серьезную информационную поддержку СМИ.
Тем не менее зрителей на широко анонсированном юбилейном бенефисе М. Силиной было чуть больше половины зала – и это в пятницу перед выходными.

Неискушенная часть зрителей — в основном пришедшие на чествование коллеги-государственные служащие различных министерств и ведомств республики (некоторые из них с детской непосредственностью признавались, что с детства помнят М. Силину на сцене), почти на протяжении всего спектакля, идущего около трех часов, искала среди действующих лиц бенефициантку, не сразу поняв, что она исполняет далеко не заглавную партию, а эпизодическую роль в финальных сценах. Программки оперы были кратки и не давали зрителям исчерпывающей информации
Действительно, для юбилейного вечера, как правило, выбирают ведущие партии, например, Любаша в «Царской невесте» Н.А. Римского-Корсакова, Кармен в одноименной опере Ж. Бизе — в этих образах на своем бенефисе представала народная артистка РФ и РС (Я) Айталина Адамова или более уместным был бы сольный концерт с насыщенным и разнообразным репертуаром, возможна добротная камерная программа.
Марина Силина была убедительна в драматических разговорных сценах, где она представала в образе старухи, шамкающей ртом, с седыми нитями волос, старающейся обольстить трусоватого любителя вкусно поесть Папагено. Героев с мощным природным геномом влечет к друг-другу сила любви-вожделения, мастерски, под смешки публики, представленная артистами в стилистике традиционных танцев коренных народов Севера.
Почти месячный отпуск перед бенефисом и профессиональная работа гримеров-пастижеров позволили ей быть достаточно органичной и в качестве 18-летней девушки, в которую она превращается, скинув как бабочка кокон свой неряшливый балахон, но в рисунке роли нет-нет да сквозило ощущение неуверенности, вызванное недостаточностью сценической практики, вместо былой грациозности — некоторая грузность в мизансценах и свойственная годам скованность движений.
В вокальном плане роль Папагены, основанная на незатейливых народно-песенных интонациях, по характеру персонажа стоящая близко к комедийным оперетточным образам – не составила труда для заслуженной артистки РФ и РС (Я) М. Силиной.
Ее привычка форсировать звук, к которой она все чаще прибегает в последнее время как способу компенсации редкой вокальной практики вместо реального тренажа мышц голосового аппарата, которые должны быть в необходимом тонусе, может привести к более заметной «качке» голоса.
«Не царское это дело» претендовать на роли второго плана, в том числе и в спектаклях, ориентированных на детскую аудиторию, составляя конкуренцию молодым солисткам, томящимся в очереди на сцену, при достаточно ограниченном репертуаре театра — в месяц идет всего несколько оперных постановок. Но дирекция театра со сцены обещала новые роли – только было неясно — как заместителю министра, курирующему вопросы профессионального искусства, в том числе и оперный театр Якутии или выходящей за возрастные рамки сопрано — голос которой по своей природе предназначен для воплощения образов нежных, юных героинь ?
Сцена требует преданности и полной отдачи от артиста, который каждый раз, выходя под софиты, покоряет прежде всего себя, изменчивое сценическое пространство и непредсказуемость публики.
М. Силина ушла со сцены в Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) на пике своих исполнительских возможностей и еще как минимум около десяти лет могла бы властвовать в своем амплуа. Якутская опера имеет убедительные примеры творческого долголетия М. Поповой, А. Ильиной М. Николаевой, А. Борисовой, А. Дьячковской и др. и это не предел возможностей при сохранении ими хорошей вокальной формы. Насколько талантливого заместителя министра республика приобрела в лице М. Силиной — покажет время, но очевидно то, что зрители, в этот юбилейный вечер, хотели ее более длительного пребывания на сцене.
+7 (999) 174-67-82