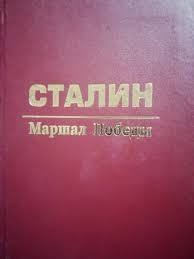
Уважаемые читатели! Мы продолжаем серию отрывков из новой книги нашего постоянного автора, историка Афанасия НИКОЛАЕВА, новой редакции книги «Сталин – Маршал Победы». В этом отрывке будут освещены неизвестные стороны политической борьбы в руководстве СССР, реальные заговоры против Сталина и подоплёка политических репрессий 30-х годов ХХ века.
1.2. Начало политических реформ в СССР (1934-1936 гг.).
Группа Сталина («узкое руководство», по выражению Ю. Жукова) в середине 30-х годов ХХ в. попыталась осуществить кардинальную реформу политической системы для ограничения власти партийно-советской бюрократии и демократизации политической жизни. Эта реформа должна была найти отражение в новой Конституции СССР и новом избирательном законодательстве.
Основная цель этих нововведений заключалась в смене политической элиты страны. Для ускоренной модернизации страны требовались не малограмотные пламенные революционеры эпохи революционной «бури и натиска», а грамотные технократы, специалисты с техническим образованием.
Альтернативные выборы позволяли демократическим путём сменить партийных и советских руководителей низового и среднего звена на уровне районов, областей, республик.
Ю.Н. Жуков писал: «После всех перекосов и перегибов коллективизации, индустриализации было понятно, что никогда жители… не проголосуют за своего первого секретаря. А им разрешали выдвигать своих кандидатов… Зафиксировано протоколами одного пленума, что Сталин допускал, что будет избрано какое-то число священников! Ему говорят: «Как так?» А он отвечает: «Если выберут, значит – недостатки нашей идеологической работы. Значит, так хочет население, и мы ничего поделать с этим не можем»».
Из отчётного доклада ЦК ВКП (б) И. Сталина на XVII съезде партии 26 января 1934 г.: «Есть у нас ещё два типа работников, которые мешают нашей работе… Один тип работников — это люди с известными заслугами в прошлом, люди, ставшие вельможами, которые считают, что партийные и советские законы писаны не для них… Эти зазнавшиеся вельможи думают, что они незаменимы… Их надо без колебаний снимать с руководящих постов, невзирая на их заслуги в прошлом».
В этом докладе Сталина также обосновал необходимость смены внешнеполитического и внутриполитического курса, решительный отказ от ориентации на мировую революцию, провозглашение приоритетной задачей защиту национальных интересов СССР. Он также сказал о возможности использовать парламентаризм и буржуазную демократию.
25 июня 1934 г. Политбюро (ПБ) ЦК ВКП (б) утвердил даты созыва и повестки дня очередных съездов Советов, XVI Всероссийского и VII Всесоюзного. В них предусматривались доклады и «по конституционным вопросам». Подготовку доклада «по конституционным вопросам» поручили секретарю ЦИК СССР А. Енукидзе.
Начиная с июля 1934 г. «узкое руководство» занималось в основном внешнеполитической проблемой, созданием Восточного пакта.
Поэтому группа Сталина смогла только в декабре 1934 г. вернуться к задуманному реформированию политической жизни страны.
10 января 1935 г. Енукидзе завершил работу над новым проектом Конституции и направил его Сталину для рассмотрения. Проект Енукидзе не устроил Сталина. В связи с этим 14 января 1935 г. он перепоручил подготовку проекта и его обоснование Молотову.
25 января 1935 г. после подготовки Молотовым этого поручения Сталин направил проект Конституции членам и кандидатам в члены Политбюро ЦК ВКП (б).
Также Сталин написал письмо Енукидзе и Жданову, раскрывающее его замысел.
Сталин писал: «Во-первых, систему выборов надо менять не только в смысле уничтожения ее многостепенности. Ее надо менять еще в смысле замены открытого голосования закрытым (тайным) голосованием… Во-вторых, надо иметь в виду, что Конституция Союза ССР выработана в основном в 1918 г. … Таким образом, изменения в Конституции надо провести в двух направлениях: а) в направлении улучшения ее избирательной системы; б) в направлении уточнения ее социально-экономической основы… Предлагаю:
1. Собрать через день-два после открытия VII съезда Советов пленум ЦК ВКП(б) и принять решение о необходимых изменениях в конституции Союза ССР.
2. Поручить одному из членов политбюро ЦК ВКП(б) (например, т. Молотову) выступить на VII съезде Советов от имени ЦК ВКП(б) с мотивированным предложением: а) одобрить решение ЦК ВКП(б) об изменениях конституции Союза ССР; б) поручить ЦИК Союза ССР создать конституционную комиссию для выработки соответствующих поправок к конституции с тем, чтобы одна из сессий Союза ССР утвердила исправленный текст конституции, а будущие выборы органов власти производились на основе новой избирательной системы».
В день открытия VII съезда Советов СССР 28 января 1935 г. в своём докладе член Политбюро ЦК ВКП (б), председатель Совета народных комиссаров (СНК) СССР В. Молотов сказал: «В сложной международной обстановке идет соревнование и вместе с тем сотрудничество двух противоположных систем… Не видеть приближения новой войны, значит не видеть и закрывать глаза на главную опасность… В последний период перед нами по-новому встал вопрос об отношении к Лиге наций… Поскольку в вопросе об обеспечении мира Лига наций может играть положительную роль, Советский Союз не мог не признать целесообразность сотрудничества с Лигой наций… Советское правительство поддерживало шаги других государств, направленные к охране мира и международной безопасности. В связи с этим следует отметить нашу активную поддержку предложения Франции о Восточном пакте взаимопомощи».
Молотов также отметил: «Советская Конституция должна быть подвергнута такой переработке, чтобы в ней были закреплены такие завоевания Октябрьской революции, как создание колхозного строя, ликвидация капиталистических элементов, победа социалистической собственности».
30 января 1935 г. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло опросом постановление:
«0 Конституции СССР и пленуме ЦК.
1. Созвать 1 февраля в 3 часа дня пленум ЦК ВКП(б) и принять решение о необходимых изменениях в конституции Союза ССР.
2. Поручить одному из членов политбюро ЦК ВКП(б) (например, т. Молотову) выступить на VII съезде Советов от имени ЦК ВКП(б) с мотивированным предложением: а) одобрить решение ЦК ВКП(б) об изменениях в конституции Союза ССР; б) поручить ЦИК Союза ССР создать конституционную комиссию для выработки соответствующих поправок к конституции с тем, чтобы одна из сессий ЦИК Союза ССР утвердила исправленный текст конституции, а будущие выборы органов власти производились на основе новой избирательной системы».
Пленум ЦК, состоявшийся 1 февраля 1935 г., принял решение:
«3. Об изменениях в конституции СССР (т. Сталин).
1.Принять предложение т. Сталина об изменениях в конституции СССР в направлении: а) дальнейшей демократизации избирательной системы в смысле замены не вполне равных выборов равными, многостепенных — прямыми, открытых — закрытыми; б) уточнения социально-экономической основы конституции в смысле приведения конституции в соответствие с нынешним соотношением классовых сил в СССР.
2.Поручить комиссии в составе тт. Сталина, Молотова, Калинина, Кагановича и Енукидзе набросать проект постановления VII съезда Советов СССР на основе предложения т. Сталина об изменениях в конституции СССР.
3. Поручить т. Молотову выступить на съезде Советов и внести проект изменений конституции СССР от имени ЦК ВКП(б)».
5 февраля 1935 г. на VII съезда Советов СССР первым слово по вопросу о новой Конституции предоставили Енукидзе. 6 февраля по этому же вопросу выступил Молотов.
Молотов сказал: «В Советском Союзе открыта дорога к полноправной жизни для всех честных тружеников… Мы идем к полной отмене всех ограничений в выборах в советы, введенных в свое время в качестве временных мер». Затем он отметил, что тайные выборы «ударят по бюрократическим элементам и будут для них полезной встряской». «Мы, — заявил Молотов, — получаем дальнейшее развитие советской системы в виде соединения непосредственно выбранных местных советов с непосредственными выборами своего рода советских парламентов в республиках и общесоюзного советского парламента».
Единогласно, как и пленум, VII съезд Советов СССР без каких-либо замечаний или поправок, без обсуждения принял постановление, сформулированное Сталиным.
Такое единодушие участников съезда объяснялось превентивными мерами со стороны группы Сталина, «узкого руководства». 18 января 1935 г., во время работы съезда, газеты опубликовали две важные информации: «О приговоре военной коллегии Верховного суда по делу Зиновьева Г.Е., Евдокимова Г.Е., Гертик A.M. и других» и заметку «В народном комиссариате внутренних дел СССР» об осуждении 78 видных сторонников Зиновьева. Эти материалы продемонстрировали колеблющимся, что может ожидать несогласных с новым курсом группы Сталина.
Предусмотренную постановлением конституционную комиссию создали 7 февраля 1935 г. при открытии первой сессии ЦИК СССР седьмого созыва. Включили в нее 31 члена ЦИК, сопредседателей ЦИК СССР, секретаря ЦИК СССР А.С. Енукидзе, председателей союзного и республиканских совнаркомов, наркомов, прокурора СССР и его заместителя, редакторов газет «Правда» и «Известия», И.В. Сталина и А.А. Жданова.
Убийство 1 декабря 1934 г. С.М. Кирова, а также смерть В.В. Куйбышева 25 января 1935 г. привели к изменениям в составе Политбюро ЦК ВКП (б). 1 февраля 1935 г. на пленуме ЦК на вакантные места в Политбюро были избраны А.И. Микоян и В.Я. Чубарь. В свою очередь, их места кандидатов в члены Политбюро заняли А.А. Жданов и Р.И. Эйхе, первый секретарь Западно-Сибирского крайкома.
Направление Жданова в Ленинград первым секретарем обкома привело к возвышению Н.И. Ежова. Решением Политбюро от 27 февраля 1935 г. Ежов стал секретарём ЦК, затем был утверждён председателем Комитета партийного контроля вместо Кагановича. Еще одним секретарем ЦК 27 февраля стал и А.А. Андреев.
Эти перестановки привели к очередному перераспределению обязанностей между секретарями ЦК, проведенному решением Политбюро от 9 марта 1935 г. На Андреева, вместо Кагановича, возложили ведение заседаний Оргбюро, но подготовку повестки дня разделили между ним и Ежовым.
Кроме того, Андреева утвердили заведующим промышленным отделом ЦК (вместо Ежова) и поручили «наблюдение за работой» транспортного отдела. Ежову, в дополнение к уже имевшимся у него двум должностям, добавили третью, утвердив заведующим ключевого, организационно-распределительного отдела (ОРПО) ЦК вместо Д.А. Булатова.
Непосредственным результатом перераспределения обязанностей между секретарями ЦК явилось очередное расслоение высшей власти. Теперь «узкое руководство» стало двухуровневым.
На первом остались Сталин, Молотов и Ворошилов. На втором — только что введенный в его состав Андреев, а также Каганович, Орджоникидзе и Жданов.
Среди третьего эшелона власти выделились заведующие отделов ЦК, которые в своей повседневной деятельности начали «выходить» непосредственно на Сталина, и подчиняться только ему, — Стецкий, Яковлев, Бауман и Ежов.
В эту третью группу, включавшую также наркома иностранных дел Литвинова, вошёл и А.Я. Вышинский, сменивший 3 марта 1935 г. на посту прокурора СССР И.А. Акулова.
Новый курс Сталина и его сторонников встретил ожесточённое скрытое сопротивление «широкого руководства» по выражению Жукова, значительной части партийной и советской бюрократии, части членов Политбюро, аппарата ЦК, СНК, руководителей республик и областей.
Они, по версии Ю. Жукова, на первых порах, избрали тактику замалчивания сталинского плана конституционной реформы.
Кроме того, по мнению Ю.Н. Жукова, основанном на анализе большого массива архивных материалов, в том числе и закрытых, неопубликованных, группа представителей партийной бюрократии при поддержке ряда военных запланировала силовой захват власти в середине 30-х годов, и физическое устранение представителей сталинской команды.
Это нашло отражение в «Кремлёвском деле» (операция «Клубок»), убийстве ближайшего соратника Сталина, секретаря ЦК партии, 1 секретаря Ленинградского обкома партии С. Кирова 1 декабря 1934 г., скоропостижной смерти в 1935 г. в результате неизвестной болезни ещё одного из близких к Сталину людей, В. Куйбышева.
Исследователи, которые отрицают саму возможность наличия таких планов представителей «широкого руководства», забывают то, что противники Сталина, особенно сторонники Троцкого, были фанатичными, волевыми людьми, профессиональными революционерами. Многие из них обладали многолетним опытом работы в подполье, организации терактов против представителей царской власти. За их плечами была революция и гражданская война, во время которой эти люди пролили реки крови.
Известно, что именно Троцкий ввёл во время Гражданской войны практику проведения децимаций, расстрела каждого десятого бойца из части, бежавшей с поля боя, первым создал в Красной Армии заградительные отряды.
Зиновьев, Каменев и Бухарин, наряду с Троцким были идеологами и организаторами политики «красного террора» в годы Гражданской войны.
Именно еврейское окружение Ленина в лице Троцкого, Свердлова, Каменева, Зиновьева, было инициатором кампании против Русской Православной Церкви, организатором политики расказачивания, обернувшегося уничтожением без суда и следствия сотен тысяч казаков и их семей.
Именно лидер военной оппозиции, М. Тухачевский, в годы Гражданской войны получил известность, не только победами над белыми армиями, но и кровавым подавлением Кронштадского восстания моряков в 1921 г., использованием тактики «выжженной земли», поголовным уничтожением жителей восставших деревень, применением химического оружия против участников крестьянского восстания в Тамбовщине в 1921 г.
Очевидно, что для этих людей, политических оппонентов Сталина, никаких моральных барьеров не существовало. И ради достижения своей цели, политической власти они были готовы на всё. К тому же они осознавали логику политической борьбы, и понимали, что ставкой в борьбе за власть является их жизнь, жизнь и благополучие их близких.
В начале января 1935 г. от брата первой жены А. Сванидзе, председателя правления Внешторгбанка, И. Сталин получил информацию о существовании заговора с целью отстранения от власти «узкого руководства». По этой информации к этому заговору были причастны секретарь Центрального исполнительного комитета (ЦИК) Верховного Совета СССР А. Енукидзе и комендант Кремля Я. Петерсон.
В связи с этим Сталин поручил руководителю НКВД Г. Ягоде проверить эту информацию. В результате началось расследование «Кремлёвского дела», или операция «Клубок».
В связи с этим была усилена охрана руководителей государства в соответствии с решением Политбюро (ПБ) ЦК ВКП (б) 14 февраля 1935 г. «Об охране Кремля». Основные подозреваемые в организации заговора были отстранены от занимаемых постов, позволявших осуществить военный переворот.
3 марта 1935 г. Енукидзе сняли с должности секретаря ЦИК ВС СССР, 9 апреля 1935 г. перевели на другое место работы коменданта Кремля Я. Петерсона. Всех тогдашних руководителей Московского военного округа (МВО), перевели на такие должности, где в их непосредственном подчинении уже не было воинских частей.
22 марта 1935 г. начальника штаба МВО A.M. Вольпе утвердили начальником административно-мобилизационного управления РККА, 5 сентября 1935 г. командующего МВО А.И. Корка перевели на должность начальника Военной академии им. Фрунзе, его заместителя Б.М. Фельдмана — в аппарат НКО, командующего ПВО МВО М.Е. Медведева отправили в отставку.
Наличие этого плана впоследствии подтвердили уже на первых своих допросах основные фигуранты «Кремлёвского дела» Енукидзе и Петерсон. Енукидзе — 11 февраля 1937 г. в Харькове и Петерсон — 27 апреля 1937 г. в Киеве. Оба показали, что готовили переворот, намереваясь арестовать или, при необходимости, убить Сталина, Молотова, Кагановича, Ворошилова и Орджоникидзе.
Енукидзе и Петерсон рассказали о четырёх вариантах ареста узкого руководства, и детали такой акции, вплоть до указания расположения комнат и кабинетов, существующей там охраны, вариантов ареста членов узкого руководства. Очевидно, что эту информацию нельзя было придумать самим следователям, так как информация такого рода оставалась государственной тайной.
19 мая 1937 г. на одном из допросов эту информацию подтвердил и арестованный бывший руководитель НКВД Ягода. Он заявил: «Планы правых в то время сводились к захвату власти путем дворцового переворота. Енукидзе говорил мне, что он лично готовит этот переворот… Он заявил мне, что комендант Кремля Петерсон посвящен в дела заговора и занят подготовкой кадров заговорщиков-исполнителей в Школе ВЦИК, расположенной в Кремле, и в командном составе кремлевского гарнизона… В наших же руках и московский гарнизон… Корк, командующий в то время Московским военным округом, целиком с нами…В конце 1933 г. Енукидзе в одной из бесед говорил мне о Тухачевском, как о человеке, на которого они ориентируются и который будет с нами».
26 мая 1937 г. на очередном допросе Ягода также заявил: «Когда… я вынужден был заняться делом «Клубок», я долго его тянул, переключил следствие от действительных виновников, организаторов заговора в Кремле — Енукидзе и других, на «мелких сошек», уборщиц и служащих…».
Кремлёвский заговор, как реальность, вероятно, следует отнести к концу 1933-го — началу 1934 г. Но, несмотря на раскрытие этого заговора, Сталин и его группа ускорили политические реформы.
4 мая 1935 г., на приеме в Кремле в честь выпускников военных академий И. Сталин фактически озвучил идею необходимости смены политической элиты. Он сказал в своём выступлении: «Раньше мы говорили, что «техника решает все»… Чтобы привести технику в движение и использовать, нужны люди, овладевшие техникой, …способные освоить и использовать эту технику… Вот почему старый лозунг «техника решает все»… должен быть теперь заменен новым лозунгом «кадры решают все»… Мы должны, прежде всего, научиться ценить людей, …каждого работника, способного принести пользу нашему делу».
14 мая 1935 г. газета «Правда» опубликовала постановление ЦК ВКП(б) «О реорганизации Культпропа ЦК ВКП (б)». Вместо Культпропа создавалось пять отделов: партийной пропаганды и агитации (руководитель — А.И. Стецкий); печати и издательств, школ (Б.М. Таль); культурно-просветительной работы (А.С. Щербаков); науки (К.Я. Бауман), научно-технических изобретений и открытий (Б.М. Волин).
Цель этого решения — установление всеохватывающего, отсутствовавшего ранее идеологического контроля со стороны сталинской группы.
16 августа 1935 г. заведующим политико-административным отделом ЦК ВКП (б), который непосредственно курировал работу силовых структур, в первую очередь НКВД, был назначен жёсткий и принципиальный старый большевик И.А. Пятницкий.
Основная причина этого назначения — необходимость установления постоянного и прямого контроля партии, за деятельностью НКВД из-за нарастающего недоверия к Г. Ягоде в связи с затягиванием расследования по делу «Клубок».
О новом, критическом отношении Сталина к Ягоде, уже явном выражении недовольства его деятельностью говорят и относящиеся к лету 1935 г. попытки подвергнуть критике деятельность НКВД и ограничение его прав.
6 мая 1935 г. новый генеральный прокурор СССР А.Я. Вышинский внёс на рассмотрение Политбюро проект постановления «О порядке производства арестов», который был утвержден 17 июня 1935 г. В соответствии с ним аресты по всем делам органы НКВД, впредь могли производить лишь с согласия соответствующего прокурора.
Помимо этого, для ареста членов ЦИК СССР и союзных республик, руководящих работников наркоматов, директоров и заместителей директоров заводов и совхозов, и даже рядовых граждан, инженеров, агрономов, врачей, профессуры, руководителей учебных и научно-исследовательских учреждений требуется не только санкция прокурора, но еще и согласие соответствующего наркома.
13 мая 1935 г. Вышинский направил в адрес Политбюро информационную записку, в которой сообщил о пересмотре им законности акции НКВД по «очистке Ленинграда от социально чуждых элементов», проведенной с 28 февраля по 27 марта 1935 г. в связи с убийством Кирова.
По предложению Вышинского, 26 июля 1935 г. Политбюро утвердило решение «О снятии судимости с колхозников». К 1 марта 1936 г. судимость была снята с 768.989 человек, в основном репрессированных по закону от 7 августа 1932 г., «закону о трех колосках». С них не только сняли судимость, но и восстановили в политических правах, праве участвовать в выборах.
Ужесточая контроль над НКВД, подвергая ревизии его работу, сталинская группа в это время одновременно заручилась поддержкой командного состава армии.
Достижению такой цели способствовало решение Политбюро ЦК ВКП (б), оформленное, как постановление ЦИК СССР от 22 сентября 1935 г. «О введении персональных званий начальствующего состава РККА и об утверждении положения о прохождении службы командным и начальствующим составом РККА».
Этим постановлением вводились новые, персональные звания — (лейтенант, старший лейтенант, капитан и т.д.). Они присваивались конкретным командирам в соответствии со специальным образованием и профессиональной квалификацией на фиксированный срок, определяемый положением о прохождении службы. После дальнейшей аттестации следовало повышение в звании, вне зависимости от занимаемой должности.
Такая система являлась выгодной для большинства командного состава. Она позволяла быть уверенным в объективной оценке деловых качеств, возможности продвижения по службе.
7 июля 1935 г. состоялось первое протокольное заседание Конституционной комиссии ЦИК. На нём были созданы 12 подкомиссий. Заместителями председателя комиссии были избраны Молотов и Калинин, секретарем — И.А. Акулов, заведующий особым сектором ЦК, заместителем секретаря — А.Н. Поскребышев.
В своём выступлении на этом пленуме, неопубликованном в печати, И. Сталин предложил разделить существовавшую единую конструкцию власти, на две самостоятельные ветви, законодательную и исполнительную.
Заслуживали внимания и два засекреченных пункта решения комиссии, о переводе и издании существующих конституций и основных законоположений буржуазных стран и их рассылке членам комиссии, организации критического разбора конституций основных буржуазных стран в печати.
Первое протокольное заседание обязало подкомиссии подготовить свои предложения в двухмесячный срок.
На деле первые наброски статей новой конституции начали поступать лишь в ноябре 1935 г. Объяснялась задержка выявившимися серьезными расхождениями во мнениях. Так, Н.В. Крыленко, нарком юстиции РСФСР, член подкомиссии судебных органов, резко выступил против разделения власти на две самостоятельные ветви, а также и выборности судей. Бухарин настойчиво требовал не предоставлять избирательные права всем без исключения гражданам.
Таким образом, уже осенью 1935 г. четко обозначились принципиальные, идейные разногласия между группой Сталина и ортодоксальными партийными деятелями. Поэтому Сталину пришлось поручить подготовку текста нового основного закона А.И. Стецкому, Я.А. Яковлеву, Б.М. Талю.
В феврале 1936 г. Я.А. Яковлев, А.И. Стецкий и Б.М. Таль представили в секретариат Конституционной комиссии, Сталину и Молотову, документ, получивший название «Черновой набросок».
1 марта 1936 г. Сталин в интервью американскому журналисту Р.У. Говарду раскрыл суть конституционной реформы: «По новой конституции выборы будут всеобщими, равными, прямыми и тайными… Избирательные списки на выборах будет выставлять не только коммунистическая партия, но и общественные беспартийные организации… У нас немало учреждений, которые работают плохо… Построил ли ты или не построил хорошую школу? Улучшил ли ты жилищные условия?… Помог ли ты сделать наш труд более эффективным, нашу жизнь более культурной? Таковы будут критерии, с которыми миллионы избирателей будут подходить к кандидатам, отбрасывая негодных, вычеркивая их из списков, выдвигая лучших и выставляя их кандидатуры. Избирательная борьба будет протекать вокруг множества острейших вопросов, главным образом вопросов практических, имеющих первостепенное значение для народа. Наша новая избирательная система подтянет все учреждения и организации, заставит их улучшить свою работу. Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в СССР будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти».
5 марта 1936 г. это интервью Сталина было опубликовано всеми газетами страны. Примечательно, что ни пропагандистских материалов по поднятым им вопросам, ни положительных откликов не последовало.
Партократия ответила на выступление Сталина демонстративным замалчиванием базисного положения новой избирательной системы, обозначив появление скрытой формы оппозиции.
Между тем, по проектам новой Конституции подготовленным группой Сталина, существовавшие в то время общественные организации, комсомол (ВЛКСМ), профсоюзы (ВЦСПС), ОСОАВИАХ (Союз обществ друзей обороны и авиахимического строительства); ОСВОД (Союз обществ содействия водного транспорта и охраны жизни людей на водных путях), и ряд других наделялись правом самостоятельно выдвигать «своих» кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР и обеспечить тем самым конкуренцию и состязательность на выборах.
Ещё до завершения работы над проектом новой конституции по инициативе «узкого руководства» были отменены некоторые классовые ограничения, введенные еще в период революции.
29 декабря 1935 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О приеме в высшие учебные заведения и техникумы», по нему были отменены установленные при приеме в вузы и ссузы ограничения, связанные с социальным происхождением.
21 апреля 1936 г. в «Правде» было опубликовано постановление ЦИК СССР о реабилитации казачества, отмене ранее существовавших для казаков ограничений в отношении их службы в армии, воссоздании в армии отдельных казачьих частей с их традиционной формой.
По решению Политбюро ЦК ВКП (б) от 4 апреля 1936 г. Л.К. Рамзин, В.А. Ларичев, В.И. Огнев и ряд других инженеров, осужденных ранее на десять лет по делу «Промпартии», не просто помиловали, но и восстановили во всех политических и гражданских правах.
Всеми этими решениями группа Сталина упорно стремилась расширить круг лиц, которым вернули гражданские права, отбиравшиеся начиная с 1918 г.
Вместе с тем усиливалась угроза прямого, открытого противостояния «узкого руководства» с ортодоксальной частью партаппарата. Об этом свидетельствовали материалы по делу об убийстве Кирова и по «Кремлевскому делу». Ядром возможной активной оппозиции могли стать сторонники Троцкого и Зиновьева.
Первые признаки назревающей опасности отметил начальник СПО НКВД Г.А. Молчанов. 5 февраля 1936 г. он докладывал Ягоде: «Новые материалы следствия обнаруживают тенденцию троцкистов к воссозданию подпольной организации по принципу цепочной связи небольшими группами».
В циркуляре заместителя наркома внутренних дел Г.Е. Прокофьева от 9 февраля 1936 г. отмечалось: «Имеющиеся в нашем распоряжении… данные показывают возросшую активность троцкистско-зиновьевского контрреволюционного подполья и наличие подпольных террористических формирований среди них. Ряд троцкистских и зиновьевских групп выдвигают идею создания единой контрреволюционной партии и создания единого организационного центра власти в СССР».
Существовала угроза скрытного выдвижения собственных кандидатов в депутаты от оппозиции и проведения их на выборах в Верховный Совет СССР и получить тем самым трибуну для свободного выражения своих политических взглядов.
Следующий виток активных действий НКВД пришелся на конец марта 1936 г. Это было связано с демонстративным замалчиванием программного интервью Сталина от 1 марта 1936 г. со стороны партийного руководства на местах.
25 марта 1936 г. Ягода, обобщая результаты следственных материалов по делам оппозиции, предложил ссыльных троцкистов и тех, кто был при последнем обмене партбилетов исключен из партии за принадлежность к троцкизму, отправить в отдаленные лагеря, а уличенных в причастности к террору расстрелять. Эта рекомендация была передана на заключение Вышинскому, который с оговорками, одобрил ее 31 марта 1936 г.
Рассмотрению этих предложений Ягоды помешала работа по завершению проекта новой Конституции.
С 17 по 19 и 22 апреля 1936 г., Сталин вместе с Яковлевым, Стецким и Талем обсуждали «Черновой набросок» проекта Конституции, вносили в него последние исправления. Последний вариант получил название «Первоначальный проект Конституции СССР» и 30 апреля 1936 г. был разослан членам ПБ и Конституционной комиссии.
Заседание Конституционной комиссии состоялось 15 мая 1936 г. Она официально одобрила проект основного закона страны и единогласно постановила внести его на рассмотрение ближайшей сессии ЦИК СССР. Тогда же комиссия избрала секретарем комиссии Я.А. Яковлева вместо И.Л. Акулова.
13 мая 1936 г. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение назначить пленум ЦК на 1 июня 1936 г., утвердить порядок дня пленума ЦК и определить основным докладчиком по проекту Конституция СССР Сталина.
Лишь затем предложение Ягоды от 25 марта о мерах по борьбе с оппозицией, с небольшими изменениями, 20 мая 1936 г. было оформлено как решение Политбюро.
1 июня 1936 г. открылся пленум ЦК ВКП(б). Перед началом первого заседания все его участники получили проект новой конституции.
В проекте новой Конституции не было важнейшего первого раздела старой Конституции «Декларации об образовании Союза Советских Социалистических Республик». В этом разделе старой Конституции содержалась ключевая фраза, обозначавшая курс на мировую революцию: «Новое союзное государство… послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительном шагом на пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику».
В проекте новой конституции особенно необычной выглядела глава №11, «Избирательная система».
Согласно статьям 9 и 10 Конституции 1924 г., верховный орган власти, Съезд советов СССР, составлялся «из представителей городских советов и советов городских поселений — по расчету 1 депутат на 25 000 избирателей, и представителей сельских советов — по расчету 1 депутат на 125000 жителей». Таким образом, избрание делегатов на Съезд советов СССР по Конституции 1924 г. проводилось своеобразными выборщиками. Именно такая система обеспечивала первым секретарям крайкомов и обкомов их властные полномочия.
Вопреки этому статья 134, главы 11 новой Конституции провозглашала, что выборы «производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании».
Статьи 135-140 новой Конституции раскрывали понятия «всеобщее» («независимо от… социального происхождения и прошлой деятельности»), «равное», «прямое» и «тайное».
Кандидаты при выборах выставлялись не по производственному принципу — от фабрик, заводов, шахт и т.п., как ранее, а от избирательных территориальных округов. Право выставления кандидатов закреплялось «за общественными организациями и обществами трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными обществами».
В целом новая избирательная система лишала и пролетариат, и представителей «широкого руководства», первых секретарей крайкомов и обкомов их полномочий и преимуществ. Слово «социалистический» в новой Конституции было использовано только в трех статьях. Коммунистическая партия фигурировала лишь раз.
Фиксировал новый проект Конституции и иные принципиально важные изменения.
Так, статья 17 старого Основного закона подчеркивала, что ЦИК СССР «объединяет работу по законодательству и управлению Союза Советских Социалистических Республик и определяет круг деятельности президиума Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза Советских Социалистических Республик».
Новая Конституция предлагала установить четкое разделение власти на две ветви. Статья 32-я ее гласила: «Законодательная власть СССР осуществляется исключительно Верховным Советом СССР», а статья 64 устанавливала, что «высшим исполнительным органом государственной власти Союза Советских Социалистических Республик является Совет народных комиссаров СССР».
Причём, в соответствии со статьей 65, СНК был «ответственен перед Верховным Советом СССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета — перед президиумом Верховного Совета СССР, которому подотчетен».
Впервые декларировались независимость судей, подчиненность их только закону и открытость разбирательств во всех судах. Также вводилось избрание народных судей (низшей судебной инстанции) «гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном голосовании» (статьи 109, 111 и 112).
Таким образом, новая Конституция полностью отрицала установки «Программы Коммунистического Интернационала» от 1 сентября 1928 г., в которой говорилось: «Государство советского типа, являясь пролетарской демократией, резко противостоит буржуазной демократии… Советское государство пролетариата есть его диктатура, его классовое единовластие… Оно открыто признает свой классовый характер, ставит своей задачей подавление эксплуататоров, лишает своих классовых врагов политических прав».
Сталину на этом пленуме ЦК ВКП (б) пришлось построить свой доклад о новой Конституции так, чтобы обезопасить себя и своих соратников от обвинений в ревизионизме и оппортунизме, сосредоточиться на обосновании тех коренных перемен, которые произошли в стране с 1924 г. в области экономики, классовой структуры, взаимоотношений народов СССР.
В результате открыто против нового проекта никто не выступил, но и не поддержал. Учитывая это, группа Сталина решила вынести на утверждение своего проекта Конституции не на сессию ЦИК СССР, где преобладали представители «широкого руководства», первые секретари крайкомов и обкомов, а на съезд Верховного Совета СССР.
Также для предупреждения активного сопротивления «широкого руководства» с подачи сталинской группы в повестку этого пленума неожиданно включили третьим пунктом доклад секретаря ЦК Н.И. Ежова «О ходе обмена партийных документов».
В своём выступлении Ежов резко критиковал бездушных руководителей, представителей «широкого руководства»: «Я не могу назвать такой партийной организации, которая с должным вниманием отнеслась бы к исключенным из партии, и в особенности к апеллирующим членам партии… Этих людей исключили из партии и лишили работы, … также лишают работы его семью. В результате эти бывшие члены партии месяцами ходили без работы… Это бездушное отношение. На деле эти руководители хуже наших врагов, потому что они толкают людей в лагерь наших врагов».
Линия поведения, избранная «широким руководством» — демонстративное равнодушие к новой конституции, вскоре проявилась вновь.
11 июня 1936 г. президиум ЦИК Верховного Совета СССР принял постановление, одобрившее проект и назначившее созыв Всесоюзного съезда Советов на 25 ноября 1936 г. Через день все газеты страны опубликовали проект нового основного закона, а 14 июня 1936 г. ввели рубрику «Всенародное обсуждение проекта конституции СССР», под которой стали помещать отклики граждан.
Кроме первых секретарей Закавказского крайкома Берии и Сталинградского крайкома Варейкиса, из видных партийных и государственных деятелей откликнулись на призыв к обсуждению проекта новой Конституции лишь члены Конституционной комиссии В.М. Молотов, М.И. Калинин, Н.В. Крыленко, А.Я. Вышинский, А.И. Стецкий и К.Б. Радек.
Отмолчались и не высказали своего мнения члены Политбюро Г.К. Орджоникидзе, А.И. Микоян и кандидат в члены ЦК А.П. Розенгольц, выступившие в эти дни обсуждения проекта новой Конституции с развернутыми докладами на заседаниях советов возглавляемых ими наркоматов.
Демонстративно уклонились от обсуждения нового проекта Конституции СССР, выступавшие летом-осенью 1936 г. в печати со своими статьями, представители «широкого руководства», первые секретари ЦК компартий Белоруссии Н. Гикало, Армении А. Ханджян, первый секретарь Московского комитета Н. Хрущёв, первый секретарь Винницкого обкома В. Чернявский, первый секретарь Донецкого обкома С. Саркисов, член ЦК, нарком просвещения РСФСР А. Бубнов.
Складывалась странная ситуация. С одной стороны, все члены ЦК проголосовали за проект новой Конституции, но с другой — никто из них не выступил открыто в ее поддержку.
Судя по дальнейшим событиям, «узкое руководство» вновь, как и в начале 1935 г., решило нанести упреждающий удар.
Уже 19 июня 1936 г. по указанию свыше, Ягода и Вышинский продолжили работу «по немедленному выявлению и полнейшему разгрому» троцкистских сил, приостановленную в конце марта. Это должно было еще раз продемонстрировать решительный и окончательный отказ от старого курса, который ориентировался на мировую революцию, и связывался с именами Троцкого и Зиновьева.
1.3. Роковой 1937 год и судьба политических реформ Сталина.
С конца мая 1937 г. начала поступать информация о ходе выборов в партийных организациях. Несмотря на решения февральско-мартовского пленума ЦК 1937 г. партийная бюрократия всё оставила без изменения. Практически все первые секретари сохранили ведущее положение, продемонстрировав «узкому руководству», что именно они являются хозяевами положения в своих регионах и добровольно уходить не собираются. Особенно заметной такая ситуация стала к началу июня 1937 г.
Группа Сталина, предусмотрев такой вариант развития событий, начала осуществлять превентивные репрессивные меры. 5 июня 1937 г. «Правда» опубликовала передовую статью под заголовком «Беспощадно громить и корчевать троцкистско-правых шпионов». Одновременно с публикацией этой статьи началась первая волна чистки «широкого руководства».
4 июня 1937 г. был снят председатель Дальне-Восточного крайисполкома, член ЦРК Г.М. Крутов, 8 июня 1937 г. председатель ЦИК АзССР Эфендиев, 14 июня 1937 г. нарком внешней торговли А.П. Розенгольц, 16 июня 1937 г. первый секретарь Западного обкома, член ЦК И.П. Румянцев.
Накануне открытия пленума ЦК, 19 июня 1937 г., первым пунктом заседания, Политбюро ЦК ВКП (б) решило сделать выступление Н.И. Ежова по кадровым вопросам.
23 июня 1937 г. пленум открыл свою работу. Ещё до первого доклада собравшихся Ежов призвал поддержать два предложения Политбюро. По первому «выразить политическое недоверие» ряду представителей широкого руководства и «вывести из состава членов и кандидатов в члены ЦК» председателя Ленинградского областного совета профсоюзов П.А. Алексеева, наркома легкой промышленности СССР И.Е. Любимова, главу правительства РСФСР Д.Е. Сулимова и ряд других товарищей.
По второму предлагалось одобрить решение «исключить из состава членов и кандидатов в члены ЦК и из партии», а их «дела передать в НКВД» с формулировкой «за измену партии и родине и активную контрреволюционную деятельность» 19 представителей «широкого руководства». В их числе были председатель Комиссии советского контроля — заместитель председателя СНК СССР Н.К. Антипов, заместитель заведующего агитпропа ЦК В.Г. Кнорин, первый секретарь Крымского обкома Л.Н. Лаврентьев, первый секретарь Восточно-Сибирского крайкома И.П. Румянцев, первый секретарь Курского обкома Б.П. Шеболдаев и ряд других.
Участники пленума единогласно одобрили оба проекта решений. Если учесть тех, кто был выведен из ЦК «опросом» во второй половине мая 1937 г., Кабакова, Рудзутука, Орахелашвили, Элиаву, Уханова, Гамарника, Тухачевского, Уборевича, Якира и Эйдемана, ЦК ВКП (б), за пять недель сократился почти на треть — на 36 человек из 120 на 1 мая 1937 г.
Противники новой избирательной системы должны были осознать, что перед ними только два варианта дальнейшего поведения. Либо поддержать проект Я.А. Яковлева, либо попасть в следующий список выведенных из состава ЦК.
27 июня 1937 г. на пленуме ЦК выступил Я.А. Яковлев с докладом о новом избирательном законе. Он начал свое выступление кратким изложением особенностей новой избирательной системы, о том, что выборы отныне будут всеобщими, равными, прямыми, тайными.
Затем Яковлев перешел к пятой, ключевой её особенности: «Конституция СССР предоставляет каждой общественной организации и обществу трудящихся право выставлять кандидатов в Верховный Совет СССР… На избирательные комиссии возлагается обязанность зарегистрировать и внести в избирательный бюллетень по соответствующему округу всех без исключения кандидатов в Верховный Совет СССР, которые выставлены общественными организациями и обществами трудящихся… К кандидатам в депутаты не предъявляется никаких особых требований».
Яковлев подчеркнул: «Избранным считается только кандидат, получивший абсолютное большинство голосов. Если ни один из кандидатов на выборах не получит абсолютного большинства голосов, то обязательно перебаллотировка двух кандидатов, получивших наибольшее количество голосов».
Далее Яковлев отметил недостатки в работе советов всех уровней. Докладчик привёл информацию, что, например, больше 90% вопросов— Орджоникидзевским крайисполкомом, более 70% — Свердловским облисполкомом и больше 80% — Азово-Черноморским крайисполкомом были решены «опросом». Другим аспектом той же проблемы стало, по словам Яковлева, повсеместное бездействие депутатских секций.
Яковлев сказал: «Все наши работники должны понять, что нет людей, которые могли бы претендовать на бесконтрольность в работе, что… только с помощью контроля снизу, дополняющего контроль и руководство сверху, можно улучшить работу советов… Практика подмены законов усмотрением той или иной группы бюрократов является делом антисоветским… Если исполнитель извращает закон в своей деятельности, крестьянин будет судить о власти, в первую очередь, на основании действий исполнителей».
Яковлев коснулся также проблемы разделения властей. Он сказал: «Партгруппы в советах и в исполкомах зачастую превратились в органы, подменяющие работу советов… Вывод: необходимо будет войти на очередной съезд партии с предложением об отмене пункта устава ВКП (б) об организации партгрупп в составе советов и их исполнительных комитетов».
Таким образом, Яковлев обосновал идею выхода Советов из-под жесткого партийного контроля, превращения их в самостоятельную ветвь власти.
Доклад Яковлева не вызвал какой-либо полемики. О главном, о принципиально иной избирательной системе сказали лишь двое.
А.И. Стецкий заметил: «И в колхозах могут выдвигать враждебного кандидата… Поэтому нужно заблаговременно позаботиться о том, чтобы не только был выдвинут наш кандидат, но чтобы наши кандидаты обсуждались на общих собраниях, чтобы за них агитировали».
Молотов в своём выступлении подчеркнул: «Новая конституция поднимает роль советов, увеличивает их значение во всем строительстве социализма… Речь идет о том, чтобы советы, советский аппарат, советских работников поставить в работе на более высокую ступень…Наши старые критерии старых партийцев теперь недостаточны… В данное время от нас, … требуется, … чтобы руководители… умели на места обюрократившейся группы работников выдвигать новых людей».
Таким образом, группа Сталина бросила открытый вызов партократии.
В тот же день, 27 июня 1937 г., пленум ЦК ВКП (б) единодушно поддержал проект нового избирательного закона и утвердил дату созыва сессии ЦИК СССР, 7 июля 1937 г.
29 июня, в последний день своей работы, пленум утвердил новое предложение Политбюро ЦК ВКП (б) о выводе из состава членов и кандидатов в члены, об исключении из партии ещё 4 членов «широкого руководства», М.С. Чудова, А.И. Струппе, И.Ф. Кодацкого, И.П. Павлуновского.
Вскоре после окончания пленума ЦК лишились своих постов еще несколько представителей «широкого руководства», 3 июня 1937 г. заместитель наркома юстиции СССР Н.Н. Крестинский, 8 июня председатель ЦИК АзССР М.М. Эфендиев, 14 июня нарком внешней торговли СССР А.П. Розенгольц, 24 июня председатель СНК УзСССР Ф. Ходжаев.
Однако все эти действия группы Сталина не достигли своей цели. Это было обусловлено началом массовых политических репрессий, инициированных «широким руководством» в качестве ответной меры, направленной на срыв политических реформ, предложенных сталинской группой.
Прелюдией этих массовых репрессий стали события, произошедшие в период с 28 июня по 2 июля 1937 г.
Накануне закрытия пленума, 28 июня 1937 г., видимо, по инициативе первого секретаря Западно-Сибирского краевого комитета партии Р.И. Эйхе, Политбюро ЦК ВКП (б) приняло засекреченное решение, которое гласило:
«1. Признать необходимым применение высшей меры наказания ко всем активистам, принадлежащим к повстанческой организации сосланных кулаков. 2. Для быстрейшего разрешения вопроса создать тройку в составе тов. Миронова (председатель), начальника управления НКВД по Западной Сибири, тов. Баркова, прокурора Западно-Сибирского края, и тов. Эйхе, секретаря Западно-Сибирского краевого комитета партии».
Судя по дальнейшему развитию событий Эйхе, обращаясь в Политбюро ЦК ВКП (б), действовал по согласованию с большинством региональных руководителей парторганизаций. Обращение Эйхе было очевидно пробным шагом, попыткой проверить готовность сталинской группы идти на определённые уступки «широкому руководству».
В период с 1 июля по 2 июля 1937 г. со Сталиным и Молотовым встретились в Кремле в сталинском кабинете 9 первых секретарей: Дальне-Восточного крайкома — И.М. Варейкис, Саратовского крайкома — А.И. Криницкий, ЦК КП(б) Азербайджана — М.-Д.А. Багиров, Горьковского обкома — А.Я. Столяр, Сталинградского обкома — Б.А. Семёнов, Омского обкома — Д.А. Булатов, Северного крайкома — Д.А. Конторин, Харьковского обкома — Н.Ф. Гикало, ЦК КП(б) Киргизии — М.К. Аммосов. Примечательно, что они заходили в кабинет Сталина последовательно, друг за другом, по предварительной договорённости.
Вероятно, как показали дальнейшие события, все эти руководители региональных партийных организаций, ссылаясь на решение Политбюро ЦК ВКП (б) от 28 июня 1937 г. о предоставлении особых прав Эйхе, потребовали наделения всех первых секретарей теми же правами.
1 июля 1937 г. у Сталина побывал фактический руководитель Комитета партийного контроля М.Ф. Шкирятов, а 2 июля — заведующий Организационно-распределительного отдела ЦК ВКП (б) Г.М. Маленков. Это были сотрудники аппарата ЦК, напрямую занимающиеся, как постоянным контролем за членами партии, так и перемещением, назначением и снятием с должности тех, кто входил в номенклатуру Политбюро.
2 июля 1937 г. по журналу посетителей сталинского кабинета была зафиксирована длительная рабочая встреча Сталина и Молотова, продолжавшаяся с 2 часов 40 минут дня до 7 часов 45 минут вечера.
В результате этих встреч и переговоров 2 июля 1937 г. появилось новое решение Политбюро ЦК ВКП (б), распространившее чрезвычайные полномочия на борьбу с врагами народа, предоставленные поначалу лишь Эйхе, уже на всех без исключения первых секретарей ЦК нацкомпартий, обкомов и крайкомов.
Начало широкомасштабных политических репрессий было выгодно, прежде всего, первым секретарям обкомов и крайкомов. Тем, кто своими действиями в годы коллективизации восстановил против себя большую часть населения.
Именно местным партийным руководителям, и именно теперь, в ходе всеобщих равных, прямых, тайных, альтернативных выборов, грозила потеря одного из двух постов, советского, обеспечивавшего им пребывание в широком руководстве, гарантировавшего обладание неограниченной властью.
По сложившейся практике первые секретари крайкомов и обкомов обязательно избирались сначала депутатами всесоюзных съездов советов, а уже на них и членами ЦИК СССР. Потеря депутатства означала утрату доверия и поднимала вопрос о дальнейшем пребывании данного первого секретаря и на его основном посту, партийном.
Также выгодны массовые репрессии были и для НКВД, карательной организации, существование и статус которой зависел от наличия внутренних врагов.
Вероятно также, что тогдашний глава НКВД Ежов, сам в недавнем прошлом секретарь Марийского обкома, Семипалатинского губкома, Казахского крайкома, в решающий момент предал Сталина. Он фактически поддержал своих бывших коллег, представителей «широкого руководства», первых секретарей обкомов, крайкомов, республик.
После появления решения Политбюро ЦК ВКП (б) от 2 июля 1937 г., разосланного циркулярно во все крайкомы, обкомы и ЦК нацкомпартий в тот же день, партактивы на местах сосредоточили внимание на проблеме борьбы с врагами народа.
Характерный пример, резолюция московского партактива, которым руководил тогда Н.С. Хрущёв: «Каждый партийный и непартийный большевик должен помнить, что враги народа, подонки эксплуататорских классов — японо-германские фашистские агенты, троцкисты, зиновьевцы, правые, эти шпионы, диверсанты и убийцы, будут всячески пытаться использовать выборы для своих вражеских контрреволюционных целей… Разоблачение, выкорчевывание и разгром всех врагов народа являются важнейшим условием успешного проведения выборов в советы, осуществления сталинской конституции и дальнейшего победоносного продвижения нашей страны к коммунизму».
После начала массовой «охоты на ведьм», подавляющее большинство участников четвертой сессии ЦИК СССР седьмого созыва, открывшейся, 7 июля 1937 г., демонстративно игнорировали суть доклада Я.А. Яковлева о конституционных реформах и говорили о чем угодно, только не о главной проблеме.
Примечательно, что принявший участие в прениях представитель «узкого руководства», прокурор СССР А.Я. Вышинский занял уже промежуточную, позицию. С одной стороны, он призывал соблюдать законность. Но, он также, в угоду мнению «широкого руководства», о необходимости усиления борьбы с врагами народа, привёл в своём выступлении и конкретный случай антисоветской пропаганды, которой занимался нищий раскулаченный. Это уже свидетельствовало о расколе внутри сталинской группы.
На третий день работы сессия ЦИК СССР единогласно утвердила «Положение о выборах в Верховный Совет СССР». Новая избирательная система, включая альтернативность, стала законом. Однако массовые репрессии, начавшиеся в те самые дни, сразу превратили его в ничего не значащий листок бумаги.
На 11 июля 1937 г. в соответствии с решением Политбюро от 2 июля поступили сведения о намеченном составе особых «троек» от 43 из 71 первых секретарей ЦК нацкомпартий, крайкомов и обкомов, прямо подчиненных ЦК ВКП(б). Оказалось, что численность намеченных жертв в цифру свыше пяти тысяч определили 7 руководителей региональных партийных организаций, более 10 тысяч человек 3 партийных руководителя. Наиболее кровожадными стали Р.И. Эйхе, потребовавший только расстрелять 10800 жителей Западно-Сибирского края, и Н.С. Хрущев, который настаивал на приговоре к расстрелу либо высылке 41305 «бывших кулаков» и «уголовников».
К концу июля 1937 г. Н.И. Ежов свёл воедино данные о намечаемых массовых репрессиях, полученные уже практически из всех регионов страны. И, несколько скорректировав, сделал их руководством к действию местных управлений вверенного ему НКВД.
Таблица эта явилась составной частью приказа Н.И. Ежова по НКВД от 30 июля 1937 г. «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов».
По этому приказу число будущих жертв уже составило 250000 человек. Это свидетельствовало о том, что политические репрессии, впервые после Гражданской войны, приобретают массовый характер.
«Лимиты» на репрессии по регионам страны, установленные в приказе Ежова, опирались на те, что изначально предложили первые секретари, а если и менялись, то лишь в сторону снижения.
«Материалами следствия по делам антисоветских формирований, — было сказано в приказе Ежова, — устанавливается, что в деревне осело значительное количество бывших кулаков, ранее репрессированных, скрывшихся от репрессий, бежавших из лагерей и трудпоселков. Осело много в прошлом репрессированных церковников и сектантов».
Установленные сроки проведения репрессии (с 5 августа 1937 г. по 15 декабря 1937 г.) точно совпадали по времени с компанией по выборам в Верховный Совет СССР. Таким образом, массовые репрессии сопровождали, создавая угрожающий фон, всю избирательную кампанию — и выдвижение кандидатов, и агитацию в их поддержку, и сами выборы.
Очевидно, что эта карательная операция и задумывалась «широким руководством», как средство, позволявшее воздействовать на выборы и добиться в ходе их определенных результатов.
Содержался в этом приказе Ежова и ряд других интересных положений. Так, согласно 5 раздела этого приказа, с этого времени не Политбюро ЦК ВКП (б), а непосредственно нарком внутренних дел Ежов, утверждал «персональный состав республиканских, краевых и областных троек».
Далее шло уточнение, в соответствии с которым один из трех непременных поначалу членов таких внесудебных, незаконных органов — прокурор — «на заседании троек может присутствовать».
А еще один пункт того же раздела практически превращал «тройки» из межведомственного органа в инструмент исключительно НКВД. «Тройки», указывалось в приказе, будут собираться для работы «в пунктах расположения соответствующих НКВД, УНКВД».
С каждой неделей массовые репрессии ширились, но и коснулись и их инициаторов, представителей широкого руководства. За три месяца из состава ЦК, КПК и ЦРК было выведено 16 первых секретарей, которые затем были арестованы и расстреляны.
За три месяца, с июля по сентябрь 1937 г., были отстранены от занимаемых должностей, а вслед за тем арестованы и расстреляны, также 6 членов Правительства СССР, народных комиссаров.
Летом и осенью 1937 г. проявилась тенденция еще более угрожающая. Репрессиям непременно стали предшествовать обсуждения на партийных пленумах и съездах тех, кто оказывался незамедлительно в опале. Не от НКВД, а от рядовой партийной массы поступали сведения об отдельных фактах, порочивших высокопоставленных лиц. Эта информация ложилась в основание уже чисто политических обвинений.
Все это в совокупности наглядно демонстрировало, во что неизбежно выльется задуманная избирательная кампания. В атмосфере несомненного массового психоза, деловую критику подменит «охота на ведьм» с ее атрибутами, подозрительностью, торжеством наветов и инсинуаций, патологической жаждой крови, сведение счетов.
К сентябрю 1937 г. очевидным стал полный провал политических реформ «узкого руководства» во главе со Сталиным.
К этому времени также стало уже ясно, что попытки создать надежный антигерманский пакт обернулись неудачей. Не удалось заключить договоры о взаимопомощи ни с Великобританией, ни с Румынией, ни с Польшей, ни со странами Прибалтики. Не начались рабочие контакты с генеральными штабами Франции и Чехословакии для выработки конкретных мер по совместной обороне в случае агрессии Германии. Не сбылись надежды на решающую роль народных фронтов.
Способствовала провалу политических реформ группы Сталина, открытому произволу со стороны представителей «широкого руководства» и нерешительность в действиях некоторых представителей «узкого руководства», которая впервые открыто проявилась в двусмысленном выступлении Вышинского на решающей сессии ЦИК СССР.
Сначала пойдя на уступки партократии, наделив её неограниченными правами, «узкое руководство» затем обрушило репрессии против нее.
«Узкое руководство» утратило монолитность и её доминирующее положение, сложившееся в начале 1934 г., значительно ослабло и стало поводом для начала нового этапа борьбы за власть.
Первым признаком приближавшейся схватки стало смещение 7 июля 1937 г., а затем арест заведующего ключевым отделом ЦК, политико-административным И.А. Пятницкого. Он контролировал работу НКВД, кадровый состав, как центрального аппарата, так и наркоматов союзных и автономных республик, краевых и областных управлений и давал санкции на все наиболее серьезные аресты.
По одной из версий, в решающий момент борьбы за власть Пятницкий, один из бывших активных функционеров Коминтера, то есть сторонник идеи мировой революции, изменил «узкому руководству» и перешёл на сторону партноменклатуры.
Одним из наиболее заинтересованных в устранении Пятницкого, как контролирующей фигуры, был нарком внутренних дел Ежов. Таким образом, Ежов юридически выходил на прямое подчинение Политбюро ЦК ВКП (б), лично Сталина.
Еще более показательной стала судьба ключевой фигуры в сталинской команде того времени, её мозгового центра, члена ЦК, заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК, фактического руководителя Комитета партийного контроля Я.А. Яковлева. Он был арестован 12 октября 1937 г.
Окончательно судьба политических реформ в СССР решилась на 2 заседаниях Политбюро ЦК ВКП (б) 10 и 11 октября 1937 г.
10 октября в 6 часов вечера в кабинете Сталина собрались Андреев, Ворошилов, Каганович, Калинин, Косиор, Микоян, Молотов, Чубарь, Жданов и Ежов. Через три часа после начала заседания в кабинет вошли Мехлис, Стецкий, Яковлев и Горкин и пробыли там всего тридцать минут. А через полчаса после их ухода, в 10 часов вечера, заседание Политбюро ЦК ВКП (б) неожиданно завершилось переносом открытия пленума на сутки — на 7 часов вечера 11 октября, утверждением тезисов выступления Молотова.
Договоренности по проекту постановления пленума и основанного на нем выступления Молотова достичь не удалось. Большинство членов Политбюро, учитывая мнение «широкого руководства», руководителей региональных партийных организаций, Ворошилов, Каганович, Косиор, Микоян, Чубарь, Ежов, решительно выступили против альтернативности выборов. Сталина поддержали лишь Молотов, Андреев, Калинин, Жданов.
11 октября Политбюро заседало с половины четвертого дня до шести, а через час открылось заседание пленума ЦК ВКП (б). Проект постановления «Об организационной и агитационно-пропагандистской работе партийных организаций в связи с выборами в Верховный Совет СССР» показал поражение сталинской группы.
Уже первый пункт проекта устанавливал: «ЦК нацкомпартий, крайкомы и обкомы обязаны тщательно проверить для утверждения ЦИКами союзных и автономных республик, краевыми и областными исполкомами состав республиканских и окружных избирательных комиссий». Та же процедура предусматривалась и при образовании участковых избирательных комиссий.
Второй пункт документа уже прямо отвергал то, что предложил Сталин весной 1936 г.: «Партийные организации обязаны выступать при выдвижении кандидатов в депутаты не отдельно от беспартийных, а сговориться с беспартийными об общем кандидате, имея в виду, что главное в избирательной кампании — не отделяться от беспартийных».
Пятый пункт проекта гласил: «Поскольку успех выборов решает политическая и организационная работа по избирательным участкам, работа по избирательной кампании должна быть возложена на все райкомы ВКП(б)… На все районные партийные организации возлагается одинаковая ответственность за ход избирательной кампании».
Прения, открывшиеся после сообщения Молотова, раскрыли замыслы членов ЦК, их желание продолжать репрессивную политику. Первые секретари крайкомов и обкомов говорили в основном о необходимости вести борьбу с «врагами».
Ю.Н. Жуков пишет: «На пленуме в 37 году, партийные руководители по очереди объяснили Сталину, что они не против демократии, да вот их местный НКВД вскрыл очередную антисоветскую, повстанческую организацию и, пока с ней не покончено, нельзя проводить альтернативные выборы… Согласно закону Паркинсона, чем больше НКВД поймает врагов народа, тем для них почётнее – можно расширяться. А первым секретарям это было выгодно, потому что, пока идут массовые аресты, ни о каких альтернативных выборах нельзя говорить. Они фактически развязали вторую гражданскую войну, создали в обществе атмосферу истерии, массового психоза. Что происходило? Открытое партсобрание, на котором говорят, что такой-то оказался врагом народа. И находились два, три, десять десятков людей, которые торопились свести счёты со своими личными недругами. Они поднимались и говорили, что вот этот – тоже троцкист, а вот тот – зиновьевец… Есть документы, … доказательства того, кто на самом деле развязал массовые репрессии. Тот же Хрущёв, оказавшийся вторым в стране по кровожадности. А первый – Р.И. Эйхе. Он каждый год выпрашивал у Политбюро разрешение дать ему возможность подписывать смертные приговоры за невыполнение хлебопоставок. Запрашивал огромное количество, десятки тысяч… А Хрущёв исхитрился летом 37-го года найти несколько десятков тысяч кулаков в Подмосковье!».
12 октября 1937 г. пленум ЦК избрал одного из лидеров «широкого руководства» Н.И. Ежова кандидатом в члены Политбюро.
29 октября 1937 г. наркомом земледелия СССР стал ещё один из лидеров «широкого руководства», кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП (б) Р.И. Эйхе. Это дало ему возможность постоянно участвовать в заседаниях «узкого руководства».
Тогда же произошло и стремительное возвышение ещё одного из представителей «широкого руководства» А.И. Микояна. Еще 22 июля 1937 г. его утвердили заместителем председателя СНК СССР, 31 июля председателем Валютной комиссии ЦК. Сохранив за собой пост наркома пищевой промышленности СССР, Микоян в июне 1937 г. стал также курировать наркомат внешней торговли, в августе — комитет заготовок, в октябре наркомат внутренней торговли.
Все это не только изменило расстановку сил в Политбюро ЦК ВКП (б), но и повлияло на формирование нового состава «узкого руководства», в котором теперь преобладали «ястребы», сторонники консервативного, жесткого политического курса.
А.И. Фурсов писал: «Главной линией Сталина была борьба с региональными баронами – героями гражданской войны, которые хотели творить на местах все по своим правилам. И главное столкновение произошло в 1936-37 годах по поводу сталинской Конституции. Сталин исходил из того, что нужны альтернативные выборы… Сталин был сторонником и многопартийной системы – и против него восстали его же соратники… Они считали, народ выберет священников, бывших белогвардейцев, грамотеев…, и чтобы не допустить этого, региональные бароны, прежде всего Хрущев и Эйхе, развернули массовые репрессии. Это был удар по нижним и средним слоям населения и по тем лицам, за которых народ мог бы проголосовать в случае выборов… Сталин не смог развернуть этот процесс вспять. Но он ответил асимметричным ударом. Логика такая – вы хотите репрессий, хорошо, но эти репрессии зацепят и вас. То есть, когда мы говорим о терроре 37 года, нужно помнить, что шли два разных процесса: один процесс был инициирован региональными баронами, и он был направлен на то, чтобы торпедировать сталинские предложения о демократизации советского общества, а второй процесс — это процесс верхушечный, удары по верхам…, которые инициировал уже сам Сталин. И к 39 году этот процесс завершился. Но продавить альтернативные выборы Сталин так и не смог, пошла подготовка к войне, и было не до того».
Позднее Сталин и его сторонники ещё несколько раз предпринимали безрезультатные попытки демократизации политической жизни.
Например, в январе 1944 г. Молотов, Маленков, Сталин предложили Политбюро утвердить проект постановления ЦК, по которому партии запрещалось вмешиваться в вопросы экономики, промышленности, сельского хозяйства, строительства, в военные дела, в дела культуры, советского строительства. Но Политбюро отклонило этот проект.
Подводя итоги рассмотрения итогов политических реформ 30-50-х годов ХХ века, необходимо отметить, что как показывают исследования Ю.Н. Жукова, руководство СССР после смерти Ленина осуществлялось коллегиально, и что Сталин никогда не был единоличным правителем страны.
Уроки политических реформ в СССР 30-50-х годов ХХ в.:
1.Основной тормоз для развития нашей страны — это правящая бюрократия, заинтересованная лишь в сохранении своей власти;
2.Политические реформы невозможны без демократизации политической жизни, массовой поддержки снизу, попытка проведения реформ сверху обречена на провал, так как в аппаратной борьбе бюрократия непобедима;
3.Политические репрессии по отношению к противникам реформ объективно ведут к массовым политическим репрессиям и наносят ущерб не бюрократии, а самим реформам и народу;
4.Успешные реформы невозможны без кардинальной реформы всего управленческого аппарата «сверху донизу», «кадры решают всё», здесь возможно имеет смысл учесть опыт современного Казахстана и петровской России, когда реформаторы использовали перенос столицы для смены власти;
5.Необходимы механизмы обратной связи реформаторов и народа, иначе реформы будут удушены «заговором молчания» бюрократии, их целенаправленным искажением, здесь возможно учесть опыт современной Белоруссии, когда Лукашенко провёл решительную реформу, заручившись помощью народа, проведя народный референдум доверия своему политическому курсу.
Читайте так же Сталин — Маршал Победы